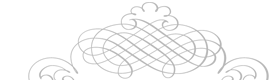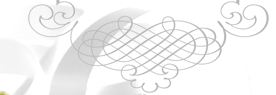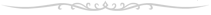Журчит река водой холодной,
Бежит к неведомым краям,
На берегу, средь ночи темной,
Поет сверчок то тут, то там.
Вот он замолк, с лучом рассвета,
На миг настала тишина,
Не описать пером поэта,
Как давит на бойца она.
И вдруг раздался залпа грохот,
Затем разрывов жуткий гул,
Как будто злобный адский хохот,
Все поле брани затянул.
Свистят снаряды попадая,
То в землю, то в ряды солдат,
Мгновенно в клочья разрывая,
Тела молоденьких ребят.
И муторно, от гари, дыма,
Кровавых луж и мертвых тел,
От пуль, что пролетают мимо,
Не двигаясь, уже вспотел.
Взвилась багровая ракета,
Атаки грозной дан приказ,
Не описать пером поэта,
Что войны думали в тот час.
Пошли бойцы не ровным строем,
Кто сзади шел, шел по телам,
Летали пули, плотным роем,
Кося солдат то тут, то там.
И раненых глухие стоны,
Подумать трезво не дают,
В мозгу одно – беречь патроны,
Бежать вперед, а то убьют.
Тихонько битва догорает,
Трубы – отбой назад зовет,
В носилках раненый страдает,
Он до утра не доживет.
Журчит река водой холодной,
Настала ночь, сверчок запел,
На берегу в траве зеленой,
Не счесть солдатских, мертвых тел.
Вдруг вспомнились трупы по снежным полям,
бомбежки и взорванные кариатиды.
Матч с немцами. Кассы ломают. Бедлам.
Простившие родине все их обиды,
катили болеть за нее инвалиды,–
войною разрезанные пополам,
еще не сосланные на Валаам,
историей выброшенные в хлам –
и мрачно цедили: «У, фрицы! У, гниды!
За нами Москва! Проиграть – это срам!».
Хрущев, ожидавший в Москву Аденауэра,
в тоске озирался по сторонам;
«Такое нам не распихать по углам...
Эх, мне бы сейчас фронтовые сто грамм!».
Незримые струпья от ран отдирая,
катили, с медалями и орденами,
обрубки войны к стадиону «Динамо» –
в единственный действующий храм,
тогда заменявший религию нам.
Катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало
на досках подшипниковых пьедесталов
прихлебывать, скажем, березовый сок
из фронтовых алюминьевых фляжек,
а тянет хл@*@@@ь поскорей, без оттяжек,
лишь то, без чего и футбол был бы тяжек:
напиток барачный, по цвету табачный,
отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный,
и, может, опилочный –
из табуретов Страны Советов,
непобедимейший самогон,
который можно, его отведав,
подзакусить рукавом, сапогом.
И, может, египетские пирамиды,
чуть вздрогнув, услышали где-то в песках,
как с грохотом катят в Москве инвалиды
с татуировками на руках.
Увидела даже статуя Либерти,
за фронт припоздавший второй со стыдом,
как грозно движутся инвалиды те –
виденьем отмщения на стадион.
Билетов не смели спросить контролерши,
глаза от непрошеных слез не протерши,
быть может, со вдовьей печалью своей.
И парни-солдатики, выказав навыки,
всех инвалидов подняли на руки,
их усадив попрямей, побравей,
самого первого ряда первей.
А инвалиды, как на поверке,–
все наготове держали фанерки
с надписью прыгающей «Бей фрицев!»,
снова в траншеи готовые врыться,
будто на линии фронта лежат,
каждый друг к другу предсмертно прижат.
У них словно нет половины души –,
их жены разбомблены и малыши.
И что же им с ненавистью поделать,
если у них – полдуши и полтела?
Еще все трибуны были негромки,
но Боря Татушин,
пробившись по кромке,
пас Паршину дал.
Тот от радости вмиг
мяч вбухнул в ворота,
сам бухнулся в них.
Так счет был открыт,
и в неистовом гвалте
прошло озаренье по тысячам лиц,
когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер,
реабилитировав имя «Фриц».
Фриц дружбой –
не злостью – за гол отплатил ему,
он руку пожал с уваженьем ему,
и – инвалиды зааплодировали
ывшему пленному своему!
Но все мы вдруг сгорбились, постарели,
когда вездесущий тот самый Фриц,
носящий фамилию пистолета,
нам гол запулил, завершая свой «блиц».
когда нам и гол второй засадили,
наш тренер почувствовал холод Сибири,
и аплодисментов не слышались звуки,
как будто нам всем отсекли даже руки.
И вдруг самый смелый из инвалидов,
вздохнул,
восхищение горькое выдав:
«Я, братцы, скажу вам по праву танкиста –
ведь здорово немцы играют
и чисто...» –
и хлопнул разок,
всех других огорошив,
в свои, обожженные в танке ладоши,
и кореш в тельняшке подхлопывать стал,
качая поскрипывающий пьедестал.
И смылись все мстительные мысленки
(все с вами мы чище от чистой игры),
и, чувствуя это, Ильин и Масленкин
вчистую забили красавцы-голы.
Теперь в инвалидах была перемена –
они бы фанерки свои о колена сломали,
да не было этих колен,
но все-таки призрак войны околел.
Нет стран, чья история – лишь безвиновье,
но будет когда-нибудь и безвойновье,
и я этот матч вам на память дарю.
Кто треплется там, что надеждам всем крышка?
Я тот же, все помнящий русский мальчишка,
и я, как свидетель, всем вам говорю,
что брезжило братство всех наций в зачатке–
когда молодой еще Яшин перчатки
отдал, как просто вратарь – вратарю.
Фриц Вальтер, вы где?
Что ж мы пиво пьем розно?
Я с этого матча усвоил серьезно –
дать руку кому-то не может быть поздно.
А счет стал 3:2.
В нашу все-таки пользу.
Но выигрыш общий неразделим.
Вы знаете, немцы, кто лучшие гиды?
Кто соединил две Германии вам?
Вернитесь в тот матч и увидите там.
Кончаются войны не жестом Фемиды,
а только, когда забывая обиды,
войну убивают в себе инвалиды,
войною разрезанные пополам.